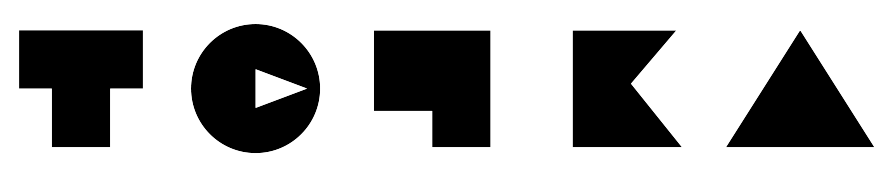«Повседневный авангард». Конструктивизм в объективе Бориса Демидова
04.07.25-11.09.25 | Куратор: Николай Васильев
Выставка «Повседневный авангард. Конструктивизм в объективе Бориса Демидова» представляет особый взгляд на архитектуру конструктивизма Екатеринбурга – города, где раннесоветское наследие формирует основу урбанистического ландшафта. В отличие от традиционных туристических и академических съемок, работы Демидова – результат ежедневного погружения в городскую среду, в которой автор живет и творит.
Борис Демидов – архитектор, фотограф и педагог, работающий в Екатеринбурге с конца 1960-х годов. На его кадрах запечатлены ключевые объекты уральского конструктивизма: спроектированный Яковом Корнфельдом Клуб строителей, жилой комплекс Уралоблсовета, спорткомплекс «Динамо», клуб им. Дзержинского, гостиница «Исеть» и Белая башня на Уралмаше. Эти здания знакомы горожанам, но на снимках Демидова раскрываются как художественные образы и культурные маркеры, «жители Екатеринбурга, свидетели истории».
Фотографии, экспонируемые на выставке, ритмичны и выразительны, они наследуют традиции графической композиции, в которой с юности обучают архитекторов, и в то же время – визуальному языку авангарда. «Борис Демидов вольно или невольно “подгонял” создаваемые им фотообразы не к сухой, отстраненной манере съемки, характерной для архитектурных журналов, а скорее к экспрессивным, динамичным снимкам авторства группы “Октябрь”, Родченко, Игнатовича, Халдея, Прехнера и других мастеров 1930-х», – отмечает куратор выставки Николай Васильев.
Эта экспозиция становится поводом не только рассмотреть архитектуру через объектив архитектора, но и заново взглянуть на конструктивизм как живое и социально значимое явление. Уральский авангард в интерпретации Демидова – не просто форма, а и содержание, не просто документ, а и личное высказывание.
В таком контексте особенно важен тезис академика А. В. Бокова:
«Центр города, построенный в конструктивистском стиле, – это уникальное явление, это, вне всякого сомнения, шедевр! И у города есть все основания сделать его памятником ЮНЕСКО как систему зданий и открытых пространств».
Работы Бориса Демидова – пример «внутреннего» взгляда на архитектуру, где эстетика, память и опыт переплетаются, чтобы напомнить: конструктивизм в Екатеринбурге не нужно искать.
Борис Демидов – архитектор, фотограф и педагог, работающий в Екатеринбурге с конца 1960-х годов. На его кадрах запечатлены ключевые объекты уральского конструктивизма: спроектированный Яковом Корнфельдом Клуб строителей, жилой комплекс Уралоблсовета, спорткомплекс «Динамо», клуб им. Дзержинского, гостиница «Исеть» и Белая башня на Уралмаше. Эти здания знакомы горожанам, но на снимках Демидова раскрываются как художественные образы и культурные маркеры, «жители Екатеринбурга, свидетели истории».
Фотографии, экспонируемые на выставке, ритмичны и выразительны, они наследуют традиции графической композиции, в которой с юности обучают архитекторов, и в то же время – визуальному языку авангарда. «Борис Демидов вольно или невольно “подгонял” создаваемые им фотообразы не к сухой, отстраненной манере съемки, характерной для архитектурных журналов, а скорее к экспрессивным, динамичным снимкам авторства группы “Октябрь”, Родченко, Игнатовича, Халдея, Прехнера и других мастеров 1930-х», – отмечает куратор выставки Николай Васильев.
Эта экспозиция становится поводом не только рассмотреть архитектуру через объектив архитектора, но и заново взглянуть на конструктивизм как живое и социально значимое явление. Уральский авангард в интерпретации Демидова – не просто форма, а и содержание, не просто документ, а и личное высказывание.
В таком контексте особенно важен тезис академика А. В. Бокова:
«Центр города, построенный в конструктивистском стиле, – это уникальное явление, это, вне всякого сомнения, шедевр! И у города есть все основания сделать его памятником ЮНЕСКО как систему зданий и открытых пространств».
Работы Бориса Демидова – пример «внутреннего» взгляда на архитектуру, где эстетика, память и опыт переплетаются, чтобы напомнить: конструктивизм в Екатеринбурге не нужно искать.
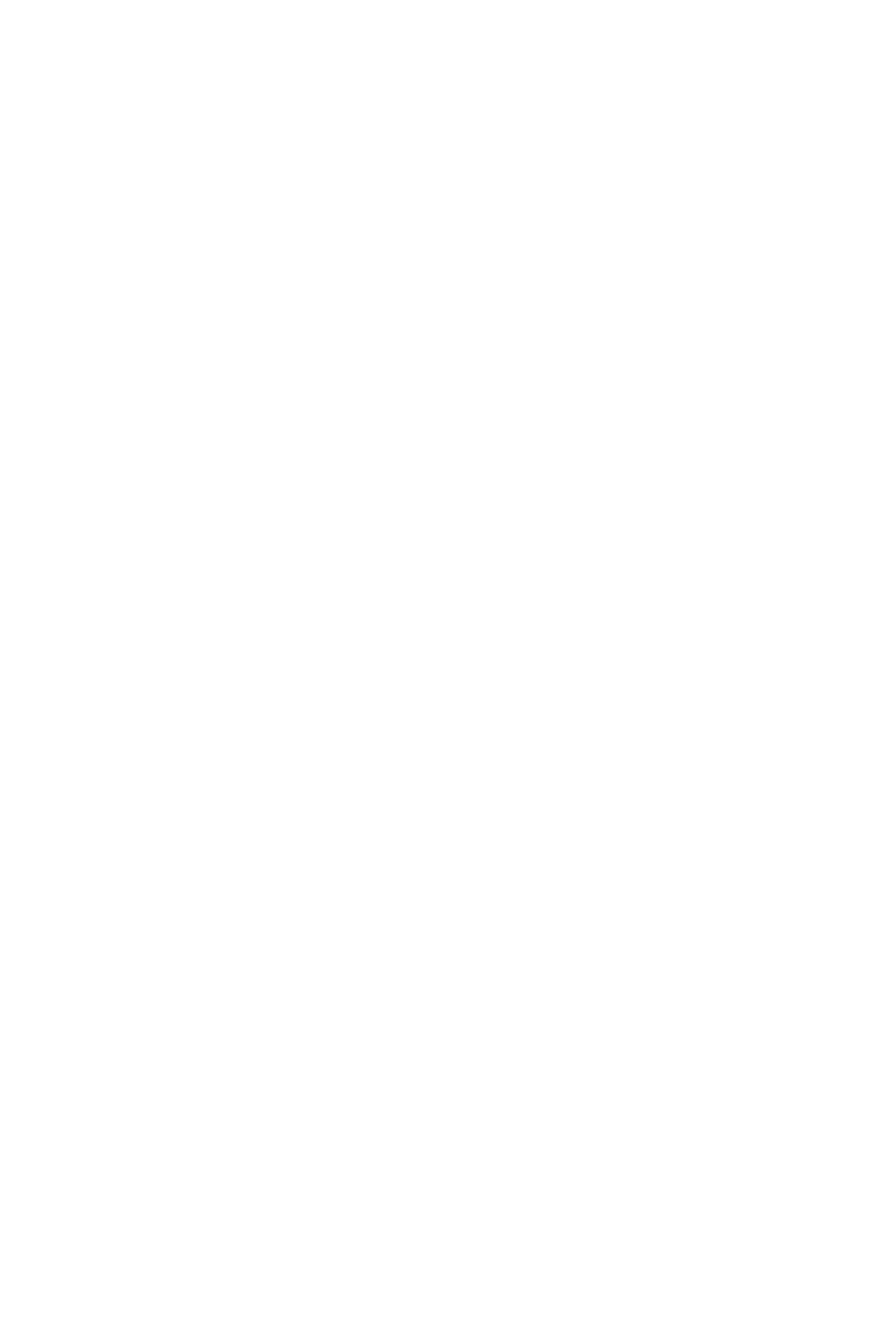
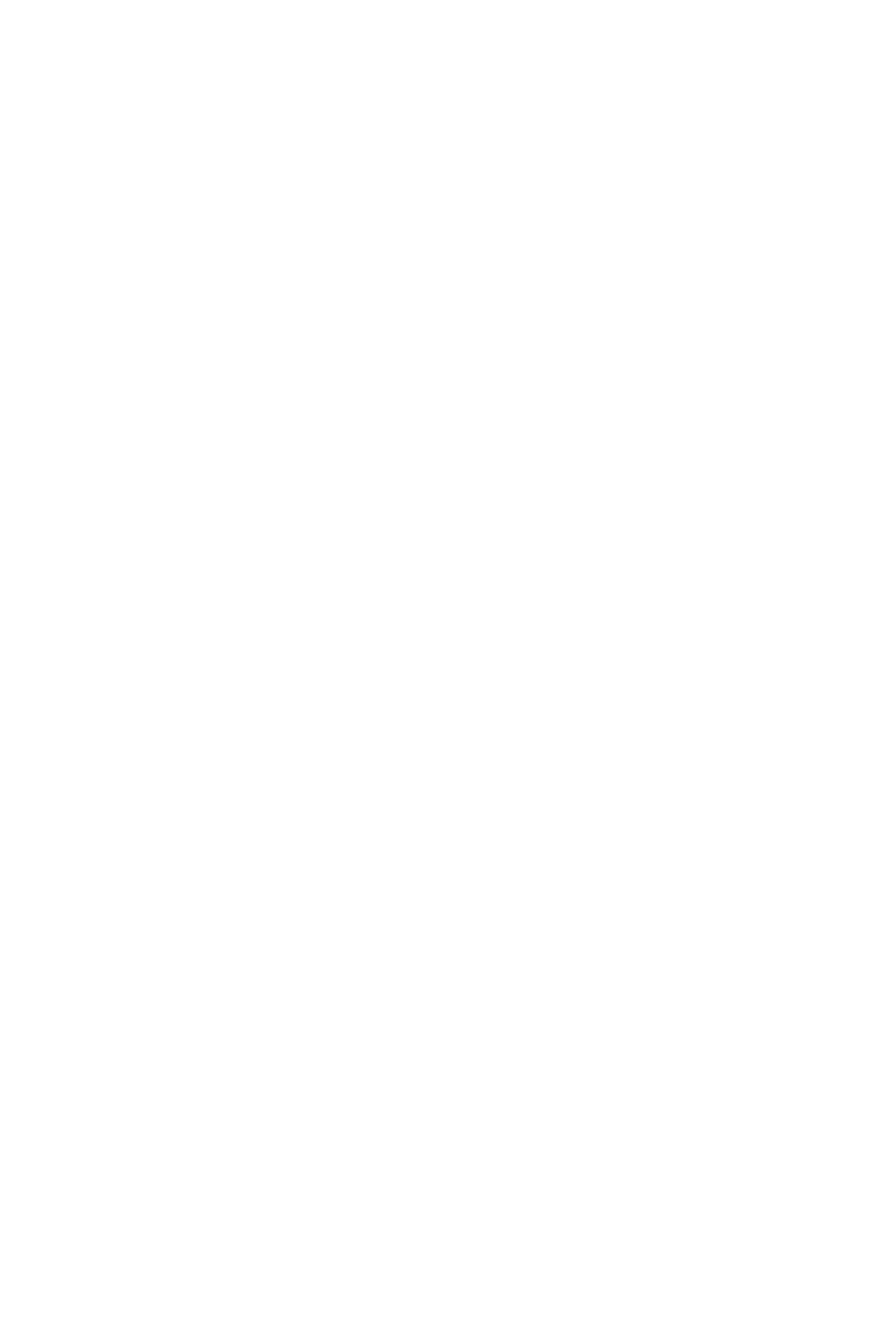
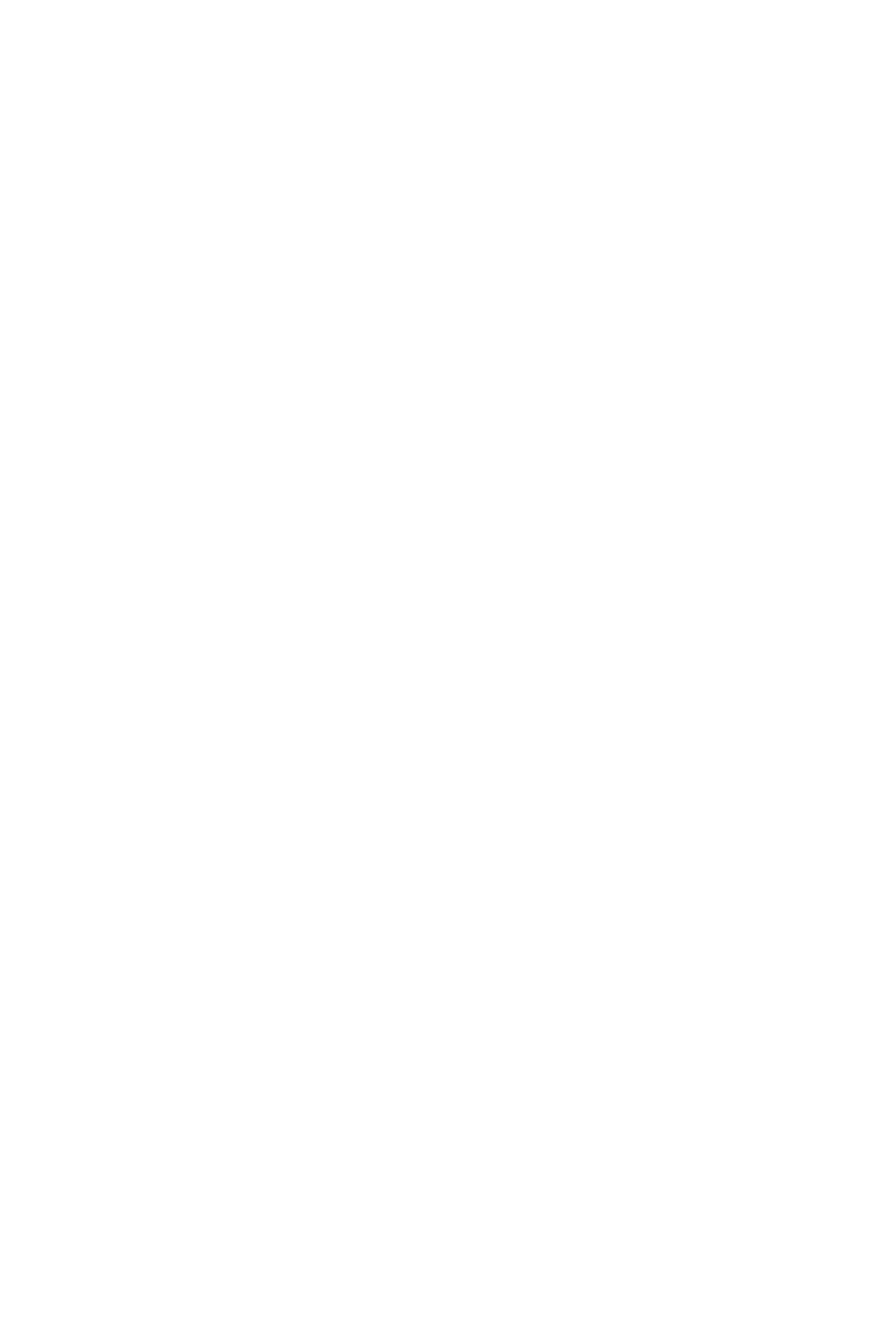
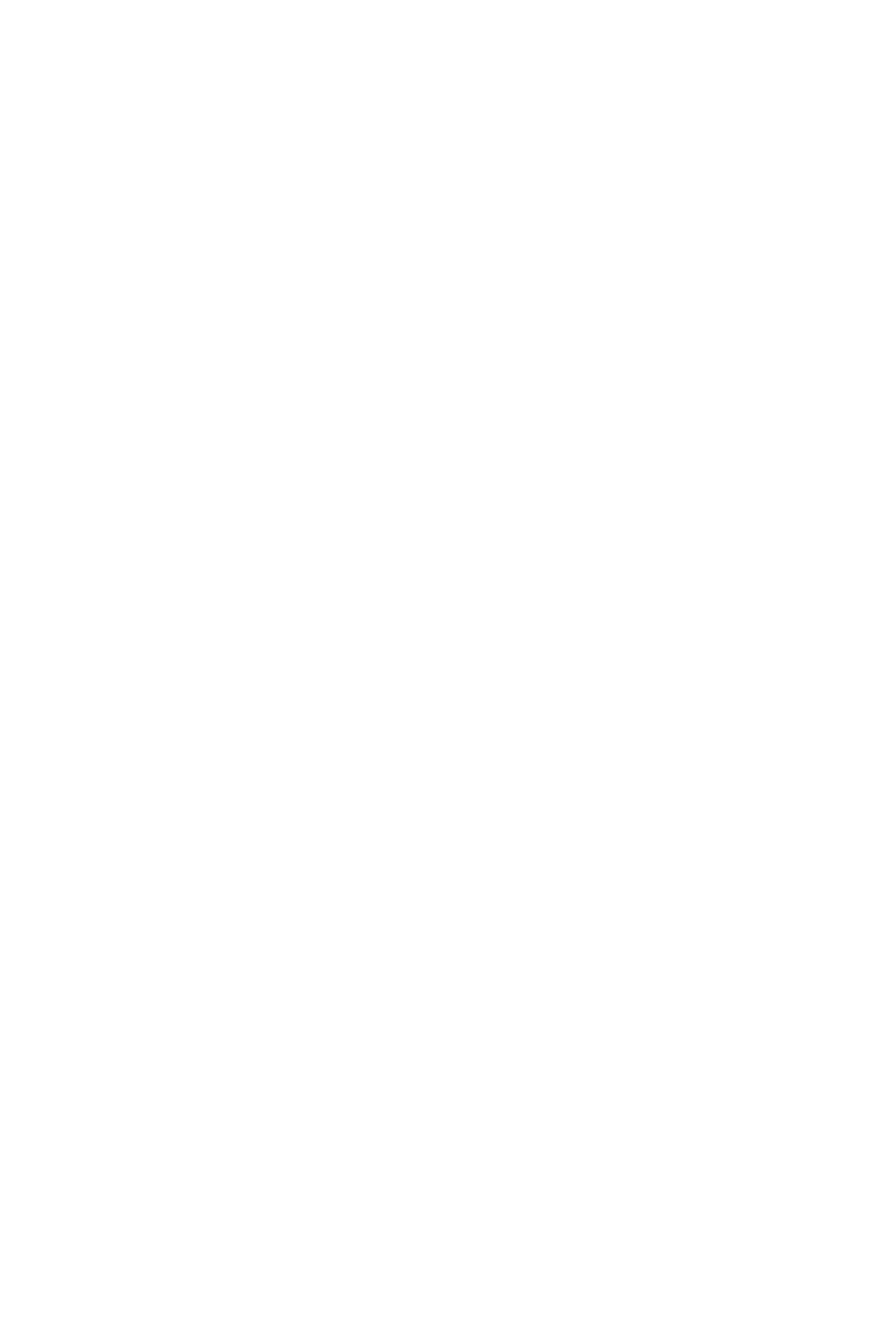
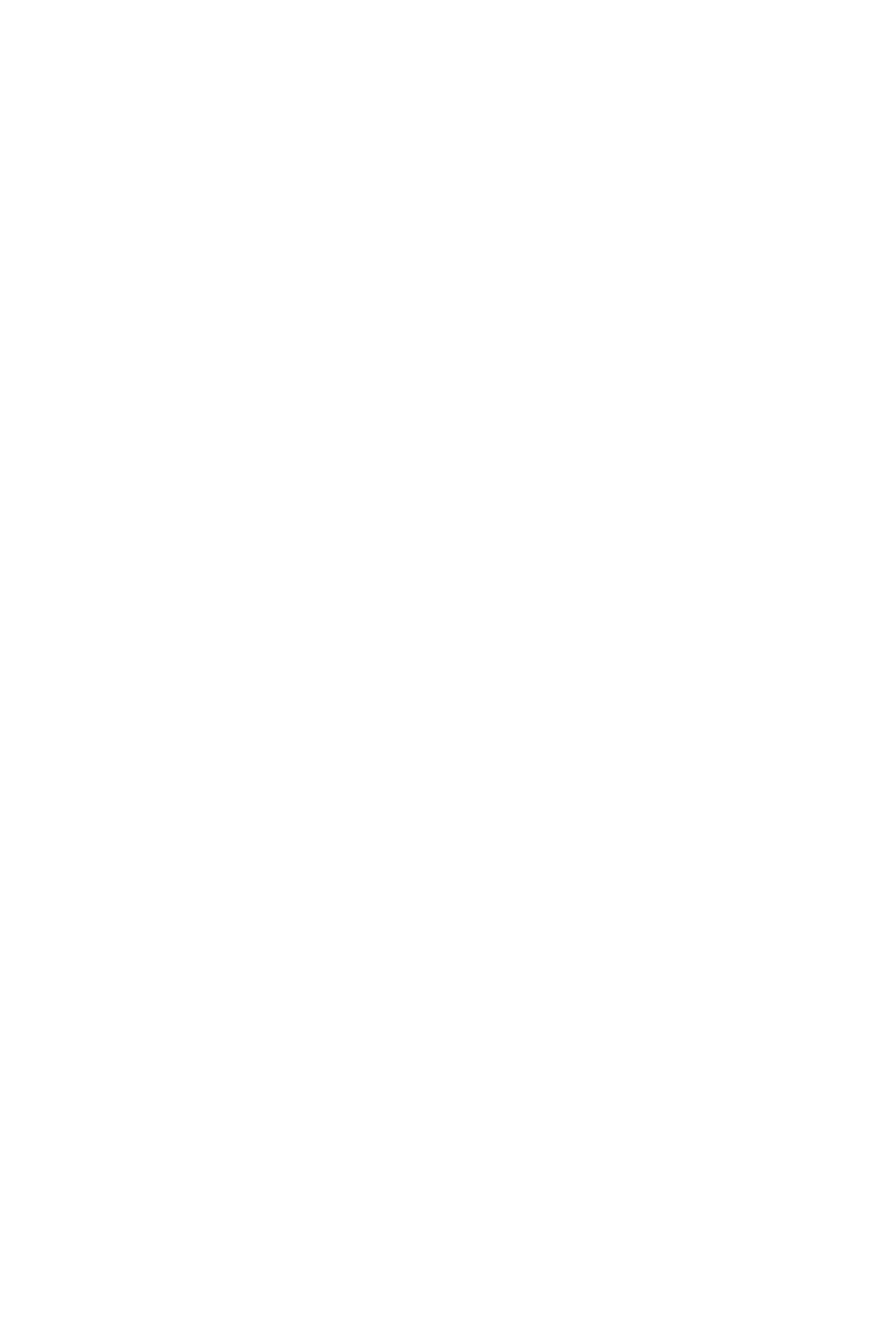
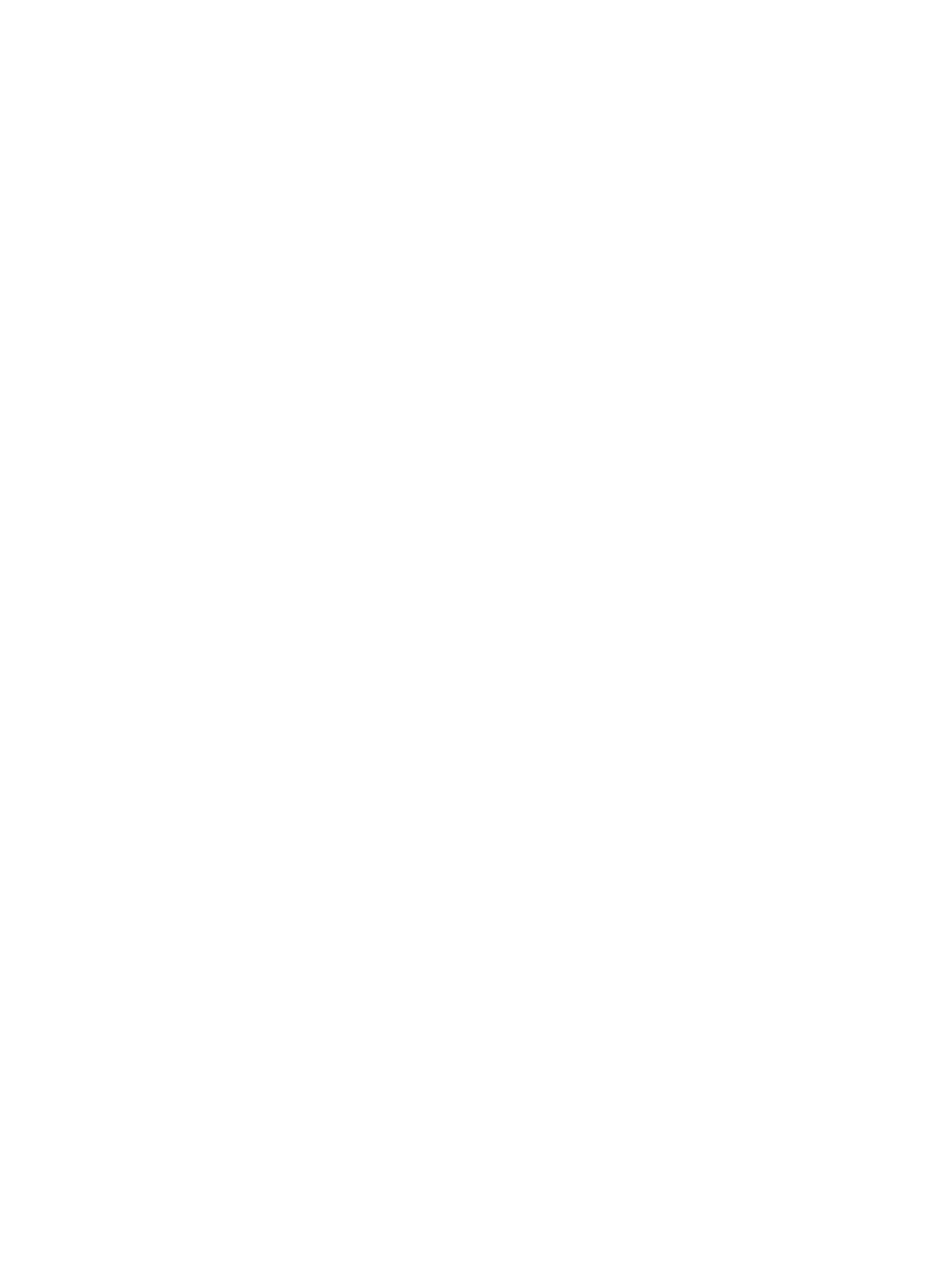
манифест
«Повседневный авангард. Конструктивизм в объективе Бориса Демидова»
Архитекторы часто хорошо фотографируют архитектуру. Для некоторых это фиксация собственной работы, подспорье к занятиям графикой, но для многих – отдельный инструмент. Вместе с блокнотом для зарисовок фотоаппарат появился в арсенале архитектора еще в XIX веке. Чаще всего архитекторы снимают в путешествиях, будь то классические постройки древности или новейшие сооружения далеких коллег. Фотографии конструктивистских зданий Екатеринбурга, сделанные Борисом Демидовым, не попадают ни в одну из этих категорий. Он и живет, и работает в городе, где раннесоветское наследие составляет костяк архитектурного наследия как такового. Для многих зодчих Екатеринбурга (подобных городов в России не столь уж и много) знакомство с архитектурой авангарда начинается не с картинок в учебнике – проектов и построек братьев Весниных, Моисея Гинзбурга, Константина Мельникова, Александра Никольского, а со зданий родного города. Борис Демидов не исключение, конструктивизм гораздо более органичен для его снимков, чем барокко, готика, модерн или японский метаболизм.
Когда живешь в некоем городе и перемещаешься по нему не в режиме желающего всё успеть туриста либо командировочного, а в ежедневном рабочем ритме, – можно выбрать и погоду, и свет, и композицию кадра. Архитекторов с первого курса, если не с подготовительного отделения и художественной школы, учат композиции, но композиции прежде всего графической. Борис Демидов вольно или невольно «подгонял» создаваемые им фотообразы не к сухой, отстраненной манере съемки, характерной для архитектурных журналов, а скорее к экспрессивным, динамичным снимкам авторства группы «Октябрь», Родченко, Игнатовича, Халдея, Прехнера и других мастеров 1930-х.
В фокусе внимания Бориса Демидова и Клуб строителей Якова Корнфельда, возможно – лучшее произведение московского конструктивиста, и жилой комплекс Уралоблсовета Моисея Гинзбурга и Александра Пастернака – «брат» знаменитого дома Наркомфина, и, конечно же, постройки свердловских архитекторов: спорткомплекс «Динамо» Арсения Тумбасова, Ивана Антонова и Вениамина Соколова, наиболее лиричное в своей романтической корабельной эстетике здание города, и спроектированный этими же зодчими городок чекистов с клубом им. Дзержинского, и своеобразный «замок» – высотная доминанта довоенного Свердловска – гостиница «Исеть». Конструктивизм в городской среде Екатеринбурга не надо искать, он здесь всегда на виду, и тем важнее увидеть в нем архитектуру: и художественную форму, и социальное содержание. Интерьеры конструктивистских зданий вообще сохранились плохо, но кое-что попадает в кадр ко всем, кто снимает раннесоветские объекты этого города: ячейка F в доме Уралоблсовета и лестница клуба чекистов. Последняя может побороться за звание самой выразительной и фотогеничной лестницы в советской архитектуре, по крайней мере данного периода. Не обделена она и вниманием Демидова.
Есть на снимках зодчего и Белая башня – водонапорная башня Уралмаша, давно уже не технический объект, не памятник промышленной архитектуры, а символ возрождения свердловского конструктивизма вообще. Она стала тем особенным сооружением, оттолкнувшись от которого архитектурная общественность смогла пойти вперед в деле сохранения наследия. Кроме динамики форм и отдельных деталей – консолей балконов, железобетонных балок, ребер и линий окон, Борис Демидов фиксирует и свое восприятие здания как такового: в сложности плана, объемно-пространственной композиции, силуэте.
Взгляд практика, знающего конструктивизм «изнутри», соединяется здесь со взглядом, художественно «ощупывающим» конкретные дома в их бытовании в современном и очень динамичном городе. Для Бориса Демидова эти дома – не музейные экспонаты, а жители Екатеринбурга, свидетели истории. Постройки конструктивизма уже не молоды и зачастую не здоровы, но все они давно заслужили в городе и его архитектуре свое собственное, особенное место.
Николай Васильев
Когда живешь в некоем городе и перемещаешься по нему не в режиме желающего всё успеть туриста либо командировочного, а в ежедневном рабочем ритме, – можно выбрать и погоду, и свет, и композицию кадра. Архитекторов с первого курса, если не с подготовительного отделения и художественной школы, учат композиции, но композиции прежде всего графической. Борис Демидов вольно или невольно «подгонял» создаваемые им фотообразы не к сухой, отстраненной манере съемки, характерной для архитектурных журналов, а скорее к экспрессивным, динамичным снимкам авторства группы «Октябрь», Родченко, Игнатовича, Халдея, Прехнера и других мастеров 1930-х.
В фокусе внимания Бориса Демидова и Клуб строителей Якова Корнфельда, возможно – лучшее произведение московского конструктивиста, и жилой комплекс Уралоблсовета Моисея Гинзбурга и Александра Пастернака – «брат» знаменитого дома Наркомфина, и, конечно же, постройки свердловских архитекторов: спорткомплекс «Динамо» Арсения Тумбасова, Ивана Антонова и Вениамина Соколова, наиболее лиричное в своей романтической корабельной эстетике здание города, и спроектированный этими же зодчими городок чекистов с клубом им. Дзержинского, и своеобразный «замок» – высотная доминанта довоенного Свердловска – гостиница «Исеть». Конструктивизм в городской среде Екатеринбурга не надо искать, он здесь всегда на виду, и тем важнее увидеть в нем архитектуру: и художественную форму, и социальное содержание. Интерьеры конструктивистских зданий вообще сохранились плохо, но кое-что попадает в кадр ко всем, кто снимает раннесоветские объекты этого города: ячейка F в доме Уралоблсовета и лестница клуба чекистов. Последняя может побороться за звание самой выразительной и фотогеничной лестницы в советской архитектуре, по крайней мере данного периода. Не обделена она и вниманием Демидова.
Есть на снимках зодчего и Белая башня – водонапорная башня Уралмаша, давно уже не технический объект, не памятник промышленной архитектуры, а символ возрождения свердловского конструктивизма вообще. Она стала тем особенным сооружением, оттолкнувшись от которого архитектурная общественность смогла пойти вперед в деле сохранения наследия. Кроме динамики форм и отдельных деталей – консолей балконов, железобетонных балок, ребер и линий окон, Борис Демидов фиксирует и свое восприятие здания как такового: в сложности плана, объемно-пространственной композиции, силуэте.
Взгляд практика, знающего конструктивизм «изнутри», соединяется здесь со взглядом, художественно «ощупывающим» конкретные дома в их бытовании в современном и очень динамичном городе. Для Бориса Демидова эти дома – не музейные экспонаты, а жители Екатеринбурга, свидетели истории. Постройки конструктивизма уже не молоды и зачастую не здоровы, но все они давно заслужили в городе и его архитектуре свое собственное, особенное место.
Николай Васильев
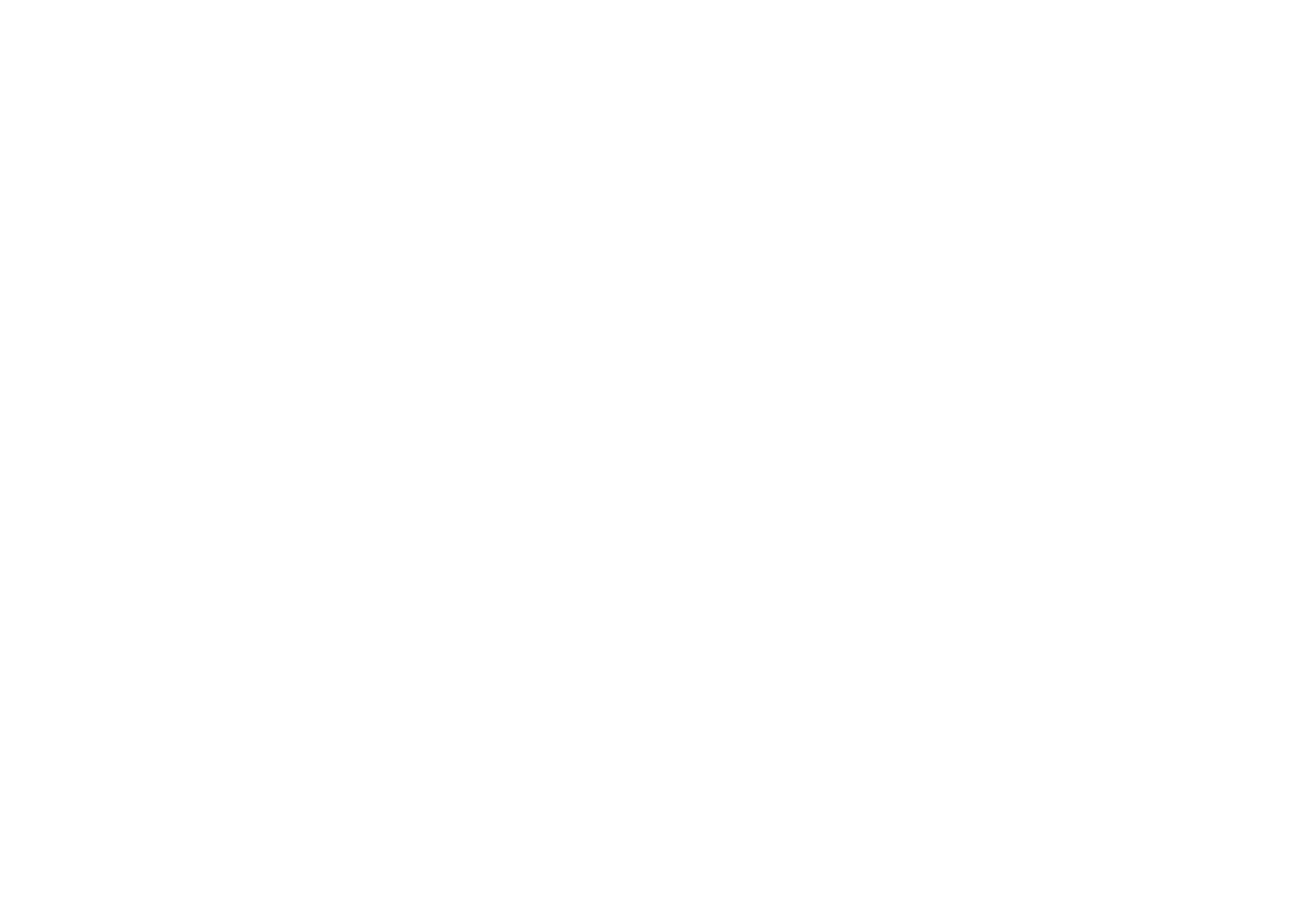
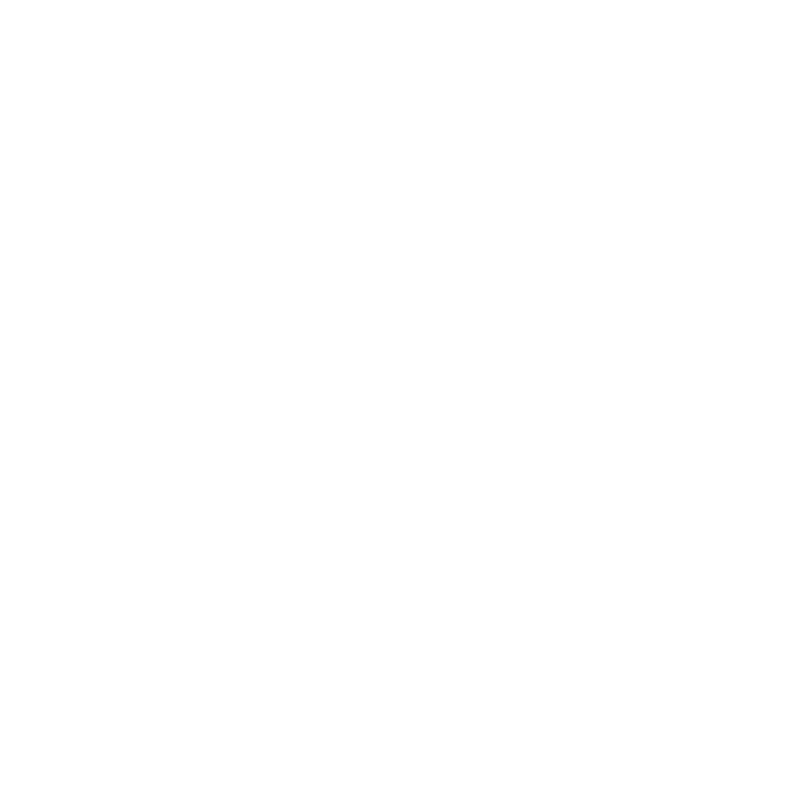
Борис Демидов
Архитектурный фотограф, архитектор, руководитель персональной творческой мастерской, главный редактор журнала «Архитектон», член Союза архитекторов России и Градостроительного совета Екатеринбурга
Подробнее
Архитектурный фотограф, архитектор, руководитель персональной творческой мастерской, главный редактор журнала «Архитектон», член Союза архитекторов России и Градостроительного совета Екатеринбурга
Подробнее